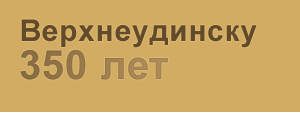Отец Вонифатий
К. Карнышев
Отец Вонифатий
(глава из неопубликованного романа "Родова")
Лицом к стене на затертых до лоснящейся черноты нарах, стойко пропахших человеческим телом и табаком пересыльного жилья, возлежал сам Аристарх Милентьевич Болтин. Он без особого интереса, вяло приподнял голову, как будто Посошков уже не раз входил сюда и дело это привычное, обыденное для него. И ни удивления и ни какого-то восторга и радости не должно это вызывать. Затененные от света углы выглядели проросшими стародавней затхлостью и сыростью. Да и во всем этом человеческом капище прочно и навсегда поместился сумрак, войдя в неуютные стены еще при самом начале, и не желал из них никуда выходить.
А что если Болтин не узнал его, всего-то и встречались два раза. Мог и не запомнить в гулком чаду бара соседа по столу. Да если сознание отемнилось водочным угаром и недавней дикой и бездомной жизнью, где он месяцами не слышал человеческого голоса. Какими ошеломленными глазами смотрел он на людское копошение.
То одно, то другое сваливалось на него. Поневоле сердце захолодеет. Скоротечная, мимолетная связь с блестящей женщиной окончилась несчастливо. Белый свет заслоняло обжигающее желание расквитаться с черным клещем - притеснителем Петром Петровичем. Телом и душой он устал от ожиданий. Скрытничанье не помогало. Кто остановит его разгул? Что-то надо было делать. Навьючившись, собрав в одну кучу все свои и чужие обиды, отправился он в рискованную дорогу, неизвестно что сулившую. Сколько в Болтине было тем летним вечером запальчивости вмешаться, что-то повернуть, что-то переиначить, и теперь вот он здесь, на тюремных нарах, наискавшись досыта правды, за которую три раза в день выдают ему арестантские пайки…
- Что меня вздумалось разыскивать? – подвинулся он к краю нар и спустил ноги вниз. – Перед вами оно, это пещерное ископаемое. Во всей своей красе. Любуйтесь и восторгайтесь. Обратно в то же самое узилище его загнали.
Болтин криво улыбнулся. И обведя Посошкова мутным взором, нехотя, с усилиями продолжал:
- Все напрасно! Не старайтесь меня возвышать. Я уже стал диким существом. Существом, существом, а не человеком! И не спорьте. Дорога у меня одна нынче – в клетку. Скоро придут и погонят. А потом посадят за решетку и повезут. Далеко, далеко… Я на половину уже сумасшедший. К концу пути дозрею до полной спелости. А вам лучше не связываться со мной. Легче и свободнее будете жить.
Знал бы Болтин, каким ветром его занесло в мрачное заведение приемника – распределителя, стены которого за долгие лета вдосталь наслушались режущих слух голосов всякого отпетого люда, а теперь и его самого как бы причислили к этому роду-племени. Кто он? Беспаспортный бродяжка, подозрительная личность, может даже с буйной кровью. Все-таки есть на свете всевышняя справедливость, выводит она в нужный миг из тьмы чей-то заблудившийся ум, прозревает он, освобождаясь от мстительных пут, и уже не смотришься совсем конченым человеком. К зараженной вечной подозрительностью и недоверием Утайкиной, показавшей на Посошкова, как на вора, встреченного ею на лестничной площадке с похищенным имуществом из соседней квартиры, нашло просветление. Если начнет такой опамятовавшийся выкорять себя, не пожалеет на это самых убийственных слов. И проклятий нашлет на задурманенную головушку свою, без ропота принимает любые страдания лишь бы искупить оговор безвинного. В следственной комнате Утайкина, без всякого стеснения и робости откровенничая, изобличала себя за недавние глумливые показания на Посошкова. Не иначе как безумие ее охватило. В здравом рассудке она бы такого не наговорила. На кого она клеветала. Разве он похож на взломщика? Да от себя последнее этот человек отдаст.
И отведено было от него клеймо воришки-домушника. А вот бродяжкой он пока остается. Вся Низовка скоро будет думушку думать: как же попал наш с виду тихоня за решетку, чего такого набедокурил?
Болтин и потом долго лупоглазо таращился на Посошкова, согнав с зрачков оловянную заволоку, нажитую на казенных нарах за многодневное лежание, как будто хотел лишний раз удостовериться: он ли это, случайный сиделец за трапезным столом в Заверяихе, добрая душа, не отпихнувший нахального приставалу? У него к тому времени все съехало набекрень, а в середке так нарывно напеклось, что любая малость могла повергнуть в бешенство. И не в те ли заносчивые часы надоумило его добраться до Петра Петровича и в усмерть сразиться с ним. Сколько судеб он переехал, кроваво располовинив их. Кипеть тебе в геенне огненной на том свете. На этом ты крепко сидишь на своем неправом троне. Будь он проклят. Будь проклят и тот, кто жирует на нем. Отрыгнутся все равно когда-нибудь мои слова. И напоследок перепутья сделал остановку не у кого-нибудь, а у Посошкова, чтобы душой укрепиться. Потому что уже с самого начала все ему показывало, что упекут его в эти окованные железом сортирные хоромы. И на том не окончится его крестный ход. Приглядывается ему надежное место на более долгое жительство.
Ладно, это Аристарху Мелентьевичу Болтину жизнеюшка расписала отбояривать дни и годики не в самых лучших укромах. А какая немочь ангелу во плоти, низовскому механику, выстелила дорожку сюда? Куда она глядела, чем запорошило ее глаза? Или вконец они прохудились, что спутала она правое с левым? Жену догонял, воротить хотел ее обратно? Чего же ей не жилось с тобой? Говоришь, деревня твоя Потрясаевка не пришлась по душе с неказистыми избами, кривыми, загогулистыми улицами, с осенней слякотью, хмурым, печальным небом, с бесконечными сырыми пашнями, угнавшими лес к самым своим задам, с ухабистыми поселками. А ты-то сам светом в окошке почему не стал для нее? Тем единственным, куда она безотрывно смотрела бы и ничего другого твоей молодой супруге не желалось бы. Что же это я? Какой же я советчик, если сам так запачкал и исковеркал жизнь двум любимым женщинам, что сердце мое никогда не выйдет из надсады. Неизлечимо ранено. И ничего уже нельзя поправить. Одна покинула земной мир, другую одолела непримиримая вражда к изменщику. Да разве судьбу загадаешь. Хотел бы я услышать, кто бы сказал: я все понимаю, все знаю, вижу далеко наперед, что будет со мной, с близкими мне. И сыщется ли та сила, которая всех бы нас рассудила, вынесла свой приговор. Нету ее. Один ты в ответе за содеянное. И не ищи напрасно заступников.
- Сын мой, непосильное бремя вы возложили на себя. От того и пребываете в бесплодном споре с самим с собой, - подал голос возлежавший на нарах благообразный старичок с обильными волосами на голове и на лице. Он приподнялся, пригладил ладонью пышную гриву, спускавшуюся к плечам, развел растопыренными пальцами в разные стороны усы и бороду.
– Все на земле ниспослано свыше, богом данное. Бог нам всем судья. Всевидящи его очи. Только многие ли помнят об этом. Кто по заблуждению впадает в отрицание, кто сознательно изгнал его из души. Каждый избирает свой путь. Я вас ни к чему не призываю, и все же любопытствую: ощущаете ли вы иногда рядом с собой, а то и в себе, существование чего-то свыше, и кто-то как бы поворачивает язык к восклицанию: «Помоги…», «Избавь…», «Даруй…», «Помилуй…», «Прости…»? Глаза его пуговочно - ярко зачернели из глубоких надбровных ям.
- Забавный вы мужичок, отец Вонифатий, - повернулся к нему Болтин. Тень усмешки тронула его губы. – Боги-то наши на земле свои приговоры и помилования вершат. Я рад бы в вашего поверить да очень далеко он от меня стоит. Длань его не дотягивается до меня. А что говорим о нем, так это по привычке. Для утешения и успокоения души.
- Вот видишь? Значит обращение к Богу есть мирская потребность. Божий промысел вскармливает не только бренную плоть, но и дух.
Лицо отца Вонифатия засветилось покоем и умиротворенностью от удовлетворения, что западут глубоко в сердце этого мирянина его слова. До того закрома можно добраться только с чистыми руками, в самых потайных, пазушных хранилищах откладываются они. И этот бальзам будет омывать все тело и в несчастье, и в радости, и в грехе, и в заблуждениях. И не погрязнет оно окончательно в грубости и зле. Пусть даже он весь еще пронизан спесью и неверием.
- Вот вы денно и нощно, дорогой батюшка, живете божьими промыслами, страждете о калечных и выпасаете заблудших. Вроде бы другая стезя вам уготована. Молитвами каждый шаг свой осеняете, - раздраженно - резко заговорил Болтин, окидывая неласковым взглядом отца Вонифатия.
- А как же угодили в это вместилище пороков и низменных страстей, откуда тридцатилетние запахи никогда не выветриваются. Здесь же все так устроено, чтобы каждую секунду подавлять в человеке человеческое. Я-то хоть знаю, за что водворен, сам шел к этому. Мне свобода за этими стенами еще более ненавистна. Она фальшива, обманна и грязна. Не скажу, что я радуюсь неволе, но принимаю ее спокойно, как жестокую необходимость.
- По случайности, сын мой… - мягко ответил старик, нисколько не сердясь на разгоряченный тон Болтина. – Шел я своей христианской дорогой с именем святого сына на устах. Смотрю, в одном поселении сошлись мужи человеческие, движимые непотребной, разбойной враждой друг к дружке. Телесными ранами их рукоприкладство стало вершиться. Хотя и обременен я был иными целями и своей дорогой следовал, но не мог пройти мимо истекающих в злобе мирян. Возымело в моем сердце чувство попытаться божьим именем усовестить их и привести к согласию. Да слишком зловеще горел в этих мужах огонь вражды. Только властные персты могли погасить ее. Запрошенная кем-то, она и прибыла вскорости на бранное ристалище, наведя твердой рукой замирение. А потом и ко мне оборотили зеницы: что за человек, куда путь держу, что при себе имею? После лагерей я ничего другого не носил в карманах, кроме книжечки проповедей отца Ворсонафия. Я ведь болезнь своей души – разные страсти более двадцати лет подавлял и лечил в Валаамском монастыре. А теперь в миру вознамерился спасать человеческие души от пороков и греховных искусов.
Думал, с миром отпустят меня стражные люди. А они повертели, повертели мои святые писания, полистали, полистали их да и говорят: «Тебе, дедушка, придется с нами проехать». Так и добрался с перепутьями до этой кельи. А теперь уж, что бог даст, будем ждать. Коли до чьей-то умной головы мой глас дойдет, то отправят отца Вонифатия на все четыре стороны.
- А вы бы все же напрямую бога подключили ко всем вашим делам, - съязвил Болтин, пряча в губах снисходительную насмешливость.
Посошков видел, как все больше мрачнел он в ответ на услаждающие речи отца Вонифатия. Глаза его вспыхивали недобрыми искрами. Пальцы исходили в нервной дрожи. Брови сурово кренились.
А ведь отец Вонифатий бесконечно добр. Ни на кого, наверное, не сможет разгневаться. Готов любого взять под свое ласковое крыло – порочного и непорочного, доброго и недоброго, чтобы ладом воссияли, слились воедино эти крайности духа человеческого. Какую бы сам Болтин переживал ущербность в этих казематных стенах, не окажись сейчас здесь отца Вонифатия. Даже та неправедность, которая обрушилась на него ни с того ни с сего, как-то обесцветилась, потускнела от своей ЗЛОВЕЩНОСТИ. Не грызла обреченно сердце.
Посошков подсел поближе к Болтину. Поразило его лицо: с оловянно-бледным отливом.
Что-то испепеляющее точило. Грызло его.
- Боишься за старичка. Обижаю я его. Думаешь ведь так? По всему вижу, - начал он говорить каким-тозахлебистым голосом, как будто слова торопились из него.
- Полюбил, поди, уже. Как же, такие речи. В тюрьме их и слушать. Соловьем заливается. Поет свою сладкую песенку, ничего не замечая вокруг. Зла-то сколько. А он колоколит одно да потому, что надо вести беседы с ангелами, войти в царствие Божье, освобождаться от земных страстей, обзаводиться благонравием. А как их скинешь, если едят они тебя поедом. Да что говорить. Надо не на страсти идти войной, а на неправду. Чем же тогда искоренишь, изведешь ее? Путаник он. Вредный старикашка.
Отец Вонифатий снова устроился в своем углу возле стены. Сидел притихший в озабоченной позе. Он слышал ядовитые восклицания Болтина о себе. Изъяснялся тот довольно громко и отчетливо. Мимо ушей отца Вонифатия это не могло проскочить. В поглядах его на Болтина не было ни раздражения, ни упрека. Кроткую и покладистую душу отца Вонифатия, погруженную в божественное, глубоко затронул разговор с ним. Он понял, насколько серьезно был отягчен этот человек, потерявший благополучие, страстями. Вызволить его из них можно только тогда, когда плоть и дух погрязшего в зле будут жить по божьим заповедям. А теперь надо молиться за него, молиться за избавление от пороков, чтобы обрел он благонравие и научился прощать врагов своих.
Слов молитвы отца Вонифатия нельзя было разобрать из отдаления. Да и не для стороннего слуха они назначались. Слышалось, как трепетно разверзались его губы в шепоте. Каким глубоким, не знающим берегов было это обращение к тому, кто мог внять его призыву, внушить душевное спокойствие, истекающему в страданиях и потрясениях человеку, названному именем Аристарх. Ниспошли ему добродетель. Во всем он разуверился. Дай ему вместо ненависти свет, любовь и радость. Засей в его сердце веру и надежду в достойную жизнь.
Болтин догадывался, о ком непрошено молится отец Вонифатий. Простить, смириться? Это после всего, что ему пришлось пережить? Сколько он натерпелся унижений. Где только его не преследовал Петр Петрович Шагунов. Как будто везде у этого человека были расставлены уши. И каждый звук его голоса, каждый шаг они улавливали. Рука Петра Петровича всюду дотягивалась, и он становился неугодным. На речном безлюдном острове, у него, вконец уставшего от бродяжьей жизни, и вызрело желание расквитаться со своим преследователем и истязателем за все мытарства. Малой карой отделался Петр Петрович. Разве просто хулы он заслуживал. Не одна жизнь погублена им. И как сидел он в своем начальническом кресле, так и сидит. Не пошатнулся под ним трон. И этот посланец бога, как все церковные люди именуют себя, подталкивает его пасть на колени перед злом. Откуда у отца Вонифатия такая безоглядная уверенность, что слово его всесильно. Без чьих-либо причитаний он обойдется. Немалых сил и терпения ему стоило прорваться через двойные, строго охраняемые двери, не слушая гневных ругательств, к шкафу на служебном стуле с неподвижными, застылыми глазами, остро и грозно буравящими входившего к нему Болтина. В складках его щек и губ тяжелыми слитками каменела значительность и недоступность.
Не тогда ли он открыл в себе, что жизнь его обрела новое существование, ранее неведомое ему. В нем как бы заработал в добавление к другим какой-то орган, обновивший его душу. Теперь совсем иначе забилось у него сердце. Робость, покорность, угодливость, страх и лесть, в полном подчинении которых он находился, постепенно отходили. Отступали от него бессилие и беспомощность. Дышалось свободнее. И внутренний голос, набравший в нем силу, сообщал ему: ни на что не закрывать глаза, смотреть на все смело и безбоязненно, если даже засадят в тюрьму или в сумасшедший дом. Не потому ли в этом бездушном живом шкафу за высокими дверями что-то пискнуло, заскрипело, а потом затрещало. Все-таки ничто не вечно в этом мире.
Ввалился в кабинет к Петру Петровичу Шагунову Болтин в его святое время, когда кому бы то ни было строго-настрого воспрещалось входить. За креслом в боковой стене под шторой пряталась потайная дверь. Там, приняв предобеденную стопочку, Петр Петрович любил подремать. Перед тем, как отойти ко сну, он предупреждал свою, вечно охорашивающуюся секретаршу с высокой птичьей шеей и пронзительно – яркими глазами, давно уже не глядевшими первородным, природным цветом: «Меня у себя нет, я на совещании…» и плотно прикрывал дверь, чтобы не выплескивались наружу его разнопевные храпы.
За бродяжьи годы, перестав следить за собой, Болтин утратил опрятность. Волосы не расчесывал. Под ногтями пряталась чернота. Куртка лоснилась. Голос потерял чистоту, хрипел. Бороду и усы он не брил, а только подстригал ножницами. Сапоги в пятках были сношены, на ногах сидели криво. Несмотря на раздраженные окрики разгневанной секретарши, Болтин помятую и затасканную одежду и рюкзак не захотел снимать. Кепку засунул в карман, крепко зажав ее в кулаке. Делал он это не без умысла. С лица Шагунова уже сползла властная высокомерность, покрываясь бледностью. В глазах его уже стояла тревога: «А что там у тебя, Болтин, в кармане? Не наган ли? Не застрелить ли ты меня явился сюда? С тебя это станется. Кровь носишь в теле дикую и необузданную, на все способную».
С наслаждением, со сладким торжеством уставился Болтин на Петра Петровича. Маленькая, толстая его шея еще больше укоротилась, вдавилась в плечи. Голова тыквенным шаром качалась над столом.
Болтин понимал, что времени у него оставалось мало. Секретарша куда надо позвонила, кого надо вызвала. Очень скоро его скрутят и выведут из кабинета. Да и Шагунов оправлялся от смятения и страха, уловив, какие силы идут ему на подмогу, и песенка Болтина будет спета. Замуруют отступника в такие стены, куда и солнышко не заглядывает. Кто сейчас Болтина слышал? Раскрашенная, покорно-услужливая секретарша? С нынешнего дня она стала квашней нерасторопной, совершив непростительное святотатство – запустила в кабинет к Петру Петровичу неисправимого путаника жизни, которого через недолгие дни признают помешанным. Кому расскажут учрежденческие стены, что он в умственном отемнении вываливал из перекошенного рта на Шагунова обвинение: какая жестокая и страшная у него душа, лукавая и коварная. Признает он лишь угодников и льстивых. Их приближает к себе. Сколько поверивших ему спилось и надломилось, не выдержав угнетающего криводушия!
Как Петр Петрович умел тонко и умно держать на своем лице маску добряка и заботника. Притворяться бескорыстным благодетелем. Разве не Шагунов вытащил его из глуши, замотанного неурядицами ветеринара, преподнес ему денежную, с хорошим служебным весом и не очень обременительную работу? И при случае любил напоминать: «Если бы не я, сидел бы ты и киснул в своей «замарашке» поныне». Болтин соглашался с ним. А вдруг хоть какой-то маленькой пользой обернется для той же «замарашки» его, пусть и не великое, восхождение по служилой лестнице. Раз за разом Болтин утверждался в вере к Шагунову. Среди других больших забот он высмотрел его, пригрел, пристроил к делу без всяких выгод для себя. Как не поклонишься ему за это в ноги. Ничем особым он не блистал. Ради людей Шагунов печется. С мучительным недоумением приходило к нему прозрение. С изумлением он открывал в нем непристойное и мерзкое. Не сразу оно выказывалось. Скрытно вел себя Шагунов, умело пряча под учтивой, ласковой личиной звериный оскал. Болтину казалось, что его засасывает в какую-то липкую трясину. Опьянение работой утрачивалось. Весь воздух вокруг ему мнился отравленным. Иногда Болтину приходило на ум сумасбродное желание встать возле Шагуновского кабинета и останавливать каждого проходящего: «Туда нельзя, можете подхватить заразу…» Неужели люди не чувствуют зловонные миазмы, которые вытекают из высоких двойных дверей? «А ты-то что рвешься к нему?» - с раздражением думал Болтин о до странности красивой женщине, чаще всех заходившей к Шагунову. Поражали своей огромностью ее глаза с необыкновенно черными зрачками. Они придавали ее лицу сияющее выражение. Как будто влажный блеск их перетекал на щеки, на лоб и губы. Она мило всем улыбалась, неизменно выглядев подтянутой и изящной. Спина ее круто прогибалась в талии. Первый раз он ее увидел в вельветовом, в мелкий рубчик, розовато-голубого цвета костюме. Конечно, всякий раз она меняла свое одеяние. Но он больше запомнил ее в этом, с плавной походкой, ставящей носки ног сильно врозь.
Сталкиваясь с нею иногда в учрежденческих коридорах, Болтин смотрел на нее с тихой, почтительной радостью. Своей красотой и стройностью она вызывала у него тайное восхищение. Однажды даже опалила Болтина пристальным блеском редких по окрасу чудесных глаз.
Но служба есть служба. Болтин уважал и ценил в ней точность, аккуратность и исполнительность. Был дотошно пунктуален в составлении и продвижении служебных бумаг по инстанциям. Явились в предбанниковую комнату с папкой, куда он вкладывал для подписи различные исходящие и входящие документы, еще верящий в их силу, Болтин встретился с приложенным к губам указательным пальцем. Ему строго воспрещалось не только входить в кабинет Петра Петровича, но и громко разговаривать. «Там она …» – было сообщено Болтину устами секретарши. «Я подожду…» – собирался он присесть на стул, еще не улавливая таинственного смысла всех подаваемых ему знаков и предостережений. «Нет, нет!… Не здесь, не сейчас… - было заявлено твердо Болтину: - Приходите позже».
Потом это стало повторяться все чаще и чаще. Как он узнал, спустя время, таинственная комната служила местом любовных свиданий Шагунова с главной районной торговой начальницей. На дом она привозила ему самую отборную снедь, которая никогда в магазинах не появлялась. Болтин терзался и ужасался до отчаяния, что эта милая женщина, с великолепно сложенной фигурой, сделала своим возлюбленным по существу физического урода. Было противоестественным говорить потом, что она что-то нашла в нем притягательно-красивое. Тогда что это такое? Неужели и в самом деле любовь слепа? Ведь кроме брезгливости, ничего другого он не мог вызывать. Если раньше его нелепый облик - крутое пузичко, голова-тыква с конусообразной верхушкой скрашивались показным благодушием, внешне благопристойным поведением. Теперь вся эта оболочка, как мишура, слетела с него. И предстал перед Болтиным настоящий, подлинный Шагунов во всей своей выморочной сути. Между ними пролегла огромная трещина, которую ничем нельзя было уже заделать. Представ перед Шагуновым сейчас почти в разбойничьем виде, наделав переполох в приемной комнате, введя в шок самого хозяина кабинета, Болтин в каком-то беспамятном состоянии топал на него ногами, подступал с кулаками к столу, за которым он сидел. Уже несколько раз открывала высокую дверь, отделанную березой, покрытую цветным лаком, секретарша, свирепо сверля взглядом Болтина. «Прочь, прочь!» - взмахивал на нее руками Шагунов, почему-то не гоня из кабинета Болтина. Что-то замороженное было в его чертах лица. Мускулы на нем казались безжизненными. Это срабатывала у Шагунова многолетняя привычка к сдержанности: что бы ни было, всеми силами сохранять в себе личину спокойного, уважительного человека. Сначала он изумленно охнул и с величавой суровостью вперился в Болтина глазами. Шагунов еще не мог поверить, что кто-то его когда-нибудь отважится так зло поносить. Нашелся, оказывается, сумасброд. В порядке ли его ум, надо покопаться в нем. Болтин понимал, что делает непоправимое. Все это не пройдет ему даром. Но уже не волен был что-то поменять. Сердце не хотело терпеть старых обид.
За дверью послышались голоса. Через приоткрытые створы в проеме ее показалось лицо секретарши. «Приехали…» - оповестила она Шагунова. «Приглашай…» - отмахнулся он от нее грубо и неприязненно.
Увозили Болтина от Петра Петровича в наручниках на тесной, дребезжащей старым железом машине. Переправив в город, исполняя желание Шагунова, напоследок пообещавшего ему сумасшедший дом, показывали его врачам психиатрической больницы. Те долго выпытывали у Болтина, что думает он об этом, что о том, тщательно обколачивали молоточком. И то, что искали, нашли…Теперь по всем линиям он подходил для тех мест, сулившихся ему Петром Петровичем.
Взгляд Болтина ушел в себя. Он невидяще посмотрел на Посошкова. Мысли его еще не могли отойти от пережитого им потрясения. Ни от кого, никуда он не собирался убегать, а возили всюду его, как арестанта, с руками заломленными за спину, в нацепленных на запястье наручниках. Ничего не поменялось и в этот день. И он никак не мог остыть. «О Троицком слышали? Это бывший монастырь. Там и будут из меня выковывать послушника». В голосе Болтина прозвучала грустная насмешливость. Своей отчаянной выходкой он пытался что-то встряхнуть, сдвинуть устоявшееся, зараженное сверху донизу несправедливостью и враньем, и чего он добился, кто его услышал? Как все оказалось вокруг него глухим и непробиваемым? В коридоре послышалось шарканье ног. Грубый, резкий голос объявил: «Ужинать, арестантики!» Загремело в скважине железо о железо. В открывшуюся с грохотом дверь вошел стражник с чайником и ведром, в котором горкой громоздились ломти хлеба. За его спиной стоял второй надзиратель с ключом в руках. Всем досталось по пластушине хлеба и по кружке жидкого, перепревшего чая.
Отец Вонифатий не спеша встал с нар. Но прежде чем принять в руки еду, стоя помолился, вознося хвалу Господу, вознаграждающего земной пищей и правого и виноватого, верующего во спасение тела и души каждого: прими этот дар человек, возблагодари нашего Благодетеля и Создателя…
Потом бережно откусывая от ломтя, подставляя ладонь под него, чтобы крошка какая-нибудь ненароком не сорвалась на пол, принялся неторопливо трапезовать. Лицо старца просветлело. По всему было видно, что даже эта скудная пища радует его. Что еще надо? Довольствуйся тем, что ниспосылается тебе. Кончив вкушание, он пригладил ладонью усы и бороду. Снова помолившись, в пояс поклонился сотрапезникам, пожелав им благодатно насытить тело.
В словах отца Вонифатия не было чего-то не идущего от сердца. Он довольствовался малым. Дай ему какой-нибудь отломок от хлебной корки, он не взропщет, а примет как ниспосланный чьей-то доброй волей дар. Воздержание и непритязательность совсем не тяготили отца Вонифатия. Сначало сознательно он приучал себя к ограничениям, а потом это стало образом его жизни. Он мог днями обходиться без пищи. Две кружки чая со свежей заваркой ему было достаточно.
Молча принимавшие (конечно, внутри у них все скрежетало) от стражников скудные хлебные листочки и алюминиевые миски с плеснутыми и кинутыми в них двумя-тремя ложками супа и мякинного вкуса каши, пахнувшими бог знает чем, сопарники по камере отводили душу на отце Вонифатии. Им казалось, что своим благодушием он предавал их недовольство здешними порядками и тем низким, ужасным и страшным, которое творилось за этими стенами. Не разгулом ли злых стихий, подхваченные ее железными ветрами, они, безвинные, загнаны сюда?
- А вы ведь вовсе не отец Вонифатий, - когда надзиратели, вернувшись, забрали кружки и миски, закрыли на ключ дверь, со скрежетом защелкнули смотровой глазок, бросил Болтин старцу, угнездившемуся в своем углу.
– Небось, крестились и получили купельное имя. Где же оно? Куда подевалось? Обман получается. А еще божий человек. Или чего-нибудь набедокурили такого, что оставалось куда-нибудь подальше запрятаться?
- Смысл свой есть в этом, - отозвался задумчиво отец Вонифатий, повернувшись к нему лицом, пропустив мимо ушей болтинские подозрения о каких-то непристойных его делах. –Да, звали меня в миру иначе, - тем же спокойным тоном продолжал он. – А если уходишь в обитель, отрешаешься от всего суетного, изгоняешь из себя гордыню, чревоугодие, блудливость, скупость, злость, себялюбие, научаешься прощать и любить, чтобы полностью принадлежать Господу Богу, жизнь круто меняется. И зваться ты уже должен согласно принятому сану, пройдя все ступени на пути к очищению.
- Что-то на сон тянет от этих говорений. – Болтин полез в глубину нар и вскоре гулко и раскатисто захрапел. Отец Вонифатий троеперстием перекрестил спящего. Руки его с тонкими сухими пальцами вознеслись над головой, легкое тело как бы окрылилось, изготавливаясь взлететь к небесам. Только небом был здесь тяжелый каменный потолок, на котором выпуклым глазом зияла тусклая, запыленная лампочка. Как он давил на голову, на плечи, на грудь, изгоняя из тела последний воздух. Дышать было нечем, легкие спирало. Посошкову померещилось, что стены тоже сжимаются и скоро его расплющит в лепешку. Ему хотелось кричать, биться о них головой. И лишь снова возникший в этом каменном мешке голос отца Вонифатия отодвинул его сознание от жутких видений.
- Молодой человек, а, молодой человек?…
Посошков не сразу уловил, что отец Вонифатий обращается к нему. Они еще ни единым словом не перемолвились. Как-то получилось так, что всех сокамерников в разговоре со старцем занимал Болтин. Почти только и слышался его осерчалый горловой голос и плавно-размеренная речь.
- Вы прежде знали, как я догадываюсь, этого человека, - кивнул он головой на спящего. – Сильно уязвлена чем-то его душа. В отрицании он живет. В злость погружен. В омут черный его затащит ретивое сердце. Гордыней у него ум заполнен. Глух он к молитве. Укрепился твердо в своих страстях. На что ваш знакомец так разобижен? Каким концом его жизнь ударила?
- Безумно Аристарх Мелентьевич любил одну женщину. Она отвечала ему тем же, - полушепотом, чтобы спящий вдруг не услышал откровений Посошкова о нем, стал осведомлять он отца Вонифатия. - Покончила она с собой. Некий владелец высокого кабинета по имени Петр Петрович Шагунов однажды подбил ее оболгать Болтина и самое себя. Совесть-то потом у женщины восстала. В своем грехе она призналась Аристарху Мелентьевичу. А после того и наложила руки… Сам он исповедался мне при случайной встрече…
- Вот как… - вскинул на Посошкова любопытные глаза отец Вонифатий. – А я-то думал, что ваш знакомый никогда больше не вернется в лоно церкви… Страсти его опутали. Остыть не может. Божье слово мнится ему помехой. Душа в растерянности. Пребывает в тьме. А ее неодолимо тянет к чему-то прислониться прочному, вечному…
- Все мы, отец Вонифатий, живем сейчас в потемках. Знаем в чем наше спасение, а приблизиться к этому источнику не можем. Чего-то в нашем сознании не достает. Ведь огнем и мечом выжигалась дорога к нему. - Посошков сокрушенно обвел взглядом узкое пространство камеры. Он остро ощущал свою ущербность, одиночество и неприкаянность. Все вокруг как будто сговорилось против него. Там не шьется, здесь не порется, тут концы с концами не сходятся. Кажется, что жизнь сбилась с дороги и взбесилась, не может успокоиться, прийти в себя и в самой себе навести порядок. Потому ни в чем нет ни складу, ни ладу, идет шиворот-навыворот и то и это. Верх взяла необузданность и одичалость.
Где Сара, кто она теперь ему? Жена или совсем чужой человек? В бегах, в странствиях… Чем он ей не угодил? Старался быть мужем. Как это получилось – другое дело. Он готов был стать небом, землей и солнцем, чтобы положить этот мир к ее ногам во всем блеске и сиянии. Не приняла. Что-то другое ей заглянуло в душу и поманило…
Словно угадав мысли Посошкова, отец Вонифатий, притягивая его к себе пуговками глаз, проговорил: - Не бойтесь смущения, это удел доброго сердца. На него-то и приходится больше всего страданий. И теряет оно куда больше, чем обретает. Многое в жизни такого человека уходит в дым и туман, рассеивается в пространстве. Но не отдавать он не может. Только всегда ли берущие понимают его, не за слабосильную ли принимают щедрую руку дающего.
Посошкова как будто что подстегнуло и подкинуло. Со дна его души встревоженным сгустком поднялось сомнение. Не в сердце ли своем отец Вонифатий выкладывает этот, удобный ему, миропорядок.
Кто из дающих вознаградил его своей щедростью. Сколько ожиданий у него было. Все они ушли в прах и пыль. А вдруг это восполнение его пустой чаши, жаждущей прибытка, бывает как бы случайным даром? Ничего не ждешь, и на тебе… сваливается… разве не возрастает во много раз цена счастья? Но так и остается он вечным странником в поисках его. Мгла не рассеивалась, свет не показывался. Желаемое по-прежнему было недосягаемой болью.
Крепко хватала Посошкова за шиворот судьба. Горькое и неладное подстерегало его на каждом шагу. Давило и пригибало. Сильное становилось еще сильнее, а слабое слабее. Трусливое-трусливее, коварное-коварнее… Он барахтался, увязал в этой хляби и трясине.
Ему было неловко перед отцом Вонифатием, которого ничего не могло осилить и сломить, не поддавался он никаким соблазнам и слабостям. Разве это не говорило, что любой человек может подняться над собой, обрести силу и спокойствие.
«Еще недавно ты был далеко от меня, - беззвучно твердил Посошков. – Отец Вонифатий перевернул мою душу. Я хочу вернуться под твою сень. Невмоготу мне жить без тебя в промыслах моих. Прости, что разучился произносить молитвы. А маленьким много их знал. Духу не хватает руку занести в кресте. Я уповаю на твое великодушие. «Возлюбите…» – призываешь ты чадо человеческое. Жестокосердие меня окружает, непонимание, равнодушие, безразличие. Отвертываются те, кому я готов отдать всего себя. Научи, просвети, ибо Ты всемогущий провидец. Помоги вызволиться из этих чуждых стен. Ноги и руки мои истосковались по земле, глаза мечтают поскорее взглянуть на родные просторы».
Посошков прикрыл веки. Сначала увидел перед собой грязно-серое небо. Оно опускалось все ниже и ниже, словно собиралось накрыть его своей твердой плоскостью. И в сне он догадывался, что это потолок камеры, принявший подобие вселенского купола. Всю ночь, спустившейся с высей тревожащим сознание густым, черным студнем, он мучился немотой, беззвучием и безъязыкостью. Проснулся от потуг что-то сказать. Было только-только начавшееся утро. Оно еще глухо и неуверенно заявляло о своем существовании. Клало бледные отсветы на стены, на потолок, до конца не прояснивая их. Отец Вонифатий лежал на спине. Борода у него задиралась лопатообразным клином. А голова с широким покатым, белым лбом покоилась на густой гриве сивых волос. Болтин, отвернувшись к стене, подтянув колени к груди, гляделся обрубком. У Посошкова спросонья зашлось сердце: не хватила ли его ночью трясучая, от судорог скрючив. Вчера Болтин разжег себя до полной горячки.
Пока Посошков спал, ноги съехали с нар. Не попытался ли он во время сна вставать? Хорошо помнит, как порывался куда-то идти… Не разговоры ли с высшими так в нем обозначились? Ходьба сначала ему не давалась. Застоявшаяся кровь еще не разогналась. Не омыла свежими потоками тело.
Новый день проходил смирно, без взвинченности. Все в нем находилось в полном подчинении. Отзывалось каждой жилой, каждым суставом на все его желания. Вместе с отцом Вонифатием ему оставалось прожить в камере полдня. Душа Посошкова уже заранее стала тосковать по старцу. Он предчувствовал, что пути их разойдутся и больше они никогда не встретятся. Еще до обеда к отцу Вонифатию, кроме стражников, неожиданно нагрянули служилые люди чином повыше. Вежливые, улыбчивые. Случай небывалый, чтобы отсидчик выпускался на волю при такой компании. Что подняло в их глазах высоко отца Вонифатия, какие перемены произошли в его арестантской значимости? Казалось, что им ничего нет приятнее, как провести рядом со старцем последние минуты его пребывания в камере.
- А все же документиками вам, отец Вонифатий, надо обзавестись. Мало ли что. Случись чего: кто такой, откуда? Выходит личность неизвестная, неясная, ни к какому месту не пристроенная, не приписанная, - советовали наведывавшиеся к нему начальственные люди в мундирах. – Если старая фамилия вам почему-либо не подходит, новую придумайте. Позвучнее, чтобы ласкала слух. А мы вам справочку выдадим, что гражданин по фамилии такой-то такой-то занимается тем-то и тем-то. Вы с нею и обратитесь куда следует. И жизнь ваша пойдет уже тверже и надежнее.
А в нем все сопротивлялось словами доброхотов: «Нет, милые мои, менять ничего я не буду. Был и остаюсь отцом Вонифатием. Полвека было со мной это имя. В могилу с ним и сойду. Таков живот наш есть. Воистину…»
Хоть и понимал отец Вонифатий, ни к чему такие разговоры, в которых не было никакого смысла. И выслушивал он их с молчаливым недоумением. Он думал о предстоящей дороге. Не по воле и его желанию она была насильственно прервана. Где и когда он окончит свои дни? Но в отпущенный ему срок за всех людей он будет молиться, за каждую травинку и дерево, за хлеб и соль, за воду и огонь, за небо и землю, за зверя и птицу».
После отца Вонифатия по телеграмме из Низовки выпустили из приемника-распределителя и Посошкова. Ни жены Сары он не отыскал, ни железяками к тракторам не обзавелся.
Болтина еще задерживали в камере: жил он в ожиданиях, какой ему окончательный приговор вынесут врачи психиатрической больницы. С Посошковым Болтин прощался сухо, с угрюмым лицом. Словно не сиживали они с глазу на глаз в Заверяихинском баре-забегаловке, не заворачивал он к нему в Низовку по какой-то настоятельной душевной надобности по дороге к Петру Петровичу Шагунову.
Так и не оттаяла его уязвленная душа. Где и когда кончил свои дни Болтин, Посошков не знал. Но на всю жизнь остались в его памяти три встречи с ним.